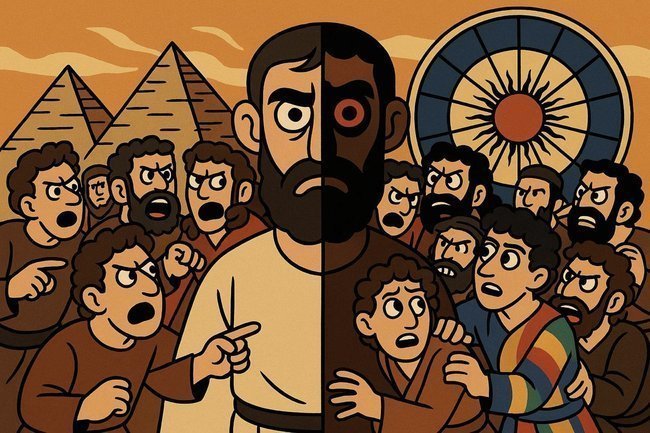Это третья серия проекта «Кто такие евреи? Понятный экскурс в историю». Раз в две недели мы возвращаемся к ключевым сюжетам прошлого, чтобы понять, как они формируют наше настоящее.
Первая часть: «Авраам: рок-звезда еврейского народа»
Вторая часть: «Завет Авраама: правила игры, по которым мы живем до сих пор»
В прошлых сериях мы подробно обсудили фигуру Авраама — первого еврея в истории. Кем бы он ни был — реальным человеком или неким собирательным образом — с него начинается рассказ о едином боге. Рассказ, в рамках которого мы с вами живем до сих пор. В тот период полностью меняются правила игры, по которым существуют люди. Именно во времена Авраама рождается миф, переживший тысячелетия и сформировавший всю западную цивилизацию. Миф, в основе которого лежит совершенно новая и революционная для древнего мира идея монотеизма.
Несмотря на то, что Авраам считается первым евреем в истории, он скорее олицетворяет собой только рождение идеи. А вот жизнь конкретного народа начинается немного позже, с его внука — Яакова (Иакова), получившего второе имя Израиль. По преданию, у Яакова родились двенадцать сыновей, и именно они стали родоначальниками колен Израиля. Но почему именно двенадцать? Были ли это реальные братья или же за этим образом стоит союз племен, объединенных общей святыней и общей памятью?
История Яакова даст нам ответ. И это будет рассказ куда менее возвышенный, чем у его деда: полный хитростей, обманов, борьбы и неожиданных откровений.
Но для начала поговорим об Ицхаке
Прежде чем перейти к истории Яакова, стоит остановиться на фигуре его отца — Ицхака (Исаака), сына Авраама. В отличие от деда и сына, он гораздо менее известен. Авраам вошел в историю как человек, открывший идею единого Бога. Яаков стал родоначальником народа, от его двенадцати сыновей произошли колена Израиля. А вот Ицхак чаще всего вспоминается только в одном эпизоде, когда его отец почти принес его в жертву.
В еврейской традиции этот сюжет называют акедат Ицхак — «связывание Ицхака». Авраам связал сына и возложил его на жертвенник, но в последний момент ангел остановил руку. С тех пор Ицхак считался посвященным Богу, словно «живая жертва». Именно поэтому он — единственный из праотцев, кто никогда не покидал землю Ханаан. Рабби Шломо Ицхаки, более известный как Раши — крупнейший еврейский толкователь Торы XI века, — так передает слова Всевышнего, обращенные к Ицхаку во время голода:
«Не спускайся [в Египет], ибо ты — жертва всесожжения (ола тмима), и за пределами земли Израиля тебе не подобает находиться», (Берешит 26:2).
Эта особенность заметна и в его браке. Жену Ицхаку привели в Ханаан. Авраам послал слугу за невестой в Месопотамию, и Ривка пришла сама, согласившись оставить родной дом и выйти замуж за человека, которого никогда не видела.
Три праотца как схема творения
На первый взгляд может показаться, что фигура Ицхака не так интересна и значима, как его деда или сына. Но это впечатление обманчиво. Если проследить линию трех праотцев, она выстраивается как постепенное формирование жизни, в точности повторяющее схему сотворения мира.
Сначала была идея — это Авраам. Как в начале Торы сказано: «И сказал Бог: да будет свет» — и появилась мысль, замысел, духовное начало. Авраам воплощает именно этот свет — идею Единого.
Затем появилась материя — это Ицхак. В истории творения Бог разделяет воды, создает сушу, устанавливает законы природы. Так и Ицхак связан с землей, с Ханааном, он — прочная материальная основа Завета.
А потом наступает соединение духовного и материального. Это Яаков. В религиозном повествовании на этом этапе Бог создает человека — того, кто соединяет дух и плоть, небесное и земное. Яакова можно воспринимать как «третью попытку» Бога сотворить человечество — после изгнания Адама и Хавы (Евы) из Эдема и нового начала с Ноахом (Ноем) после потопа, которое вскоре обернулось распадом поколения у Вавилонской башни. Теперь замысел получает новое воплощение через Яакова, которому суждено соединить идею с материей.
Яаков и Эсав: борьба двух братьев
У Ицхака и его жены Ривки родились близнецы. Первым появился Эсав (Исав) — рыжий, сильный, весь покрытый волосами, «человек поля», охотник. За ним, держа брата за пяту, вышел Яаков — тихий, «живущий в шатрах», больше связанный с домом и учебой.
Согласно традиции, еще в юности проявилось их различие. Эсав больше заботился о настоящем моменте, Яаков — о будущем и о смысле. Поэтому однажды, когда голодный Эсав вернулся с охоты, Яаков предложил ему чечевичную похлебку в обмен на первородство. Тот согласился и пренебрежительно продал свое право за миску еды.
Позднее, когда Ицхак собрался благословить старшего сына, Ривка вспомнила слова, сказанные ей еще до рождения детей: «Два народа в утробе твоей, и старший будет служить младшему». Это пророчество показывало, что благословение должно достаться Яакову. Тогда она решилась на обман: приготовила еду, нарядила Яакова в одежды Эсава и прикрыла руки козьими шкурами. «Голос — голос Яакова, а руки — руки Эсава», — сомневался Ицхак. Но он все же благословил сына:
«Даст тебе Бог от росы небес и от туков земли обилие хлеба и вина. Будь владыкой братьям твоим; проклинающие тебя — прокляты, благословляющие тебя — благословенны», (Берешит 27:28–29).
Когда Эсав вернулся с охоты, все уже было решено. Его крик и слезы стали одними из самых трагичных в Торе. Он понял, что лишился и первородства, и благословения. С этого дня он возненавидел брата и поклялся убить его, и Яакову пришлось бежать к Лавану, брату своей матери.
Мудрецы поясняют, что Ривка действовала как пророчица, исполняя волю Всевышнего. Эсав сам пренебрег своим первородством, а потому не мог получить благословение. Еврейский философ и толкователь XII века Рамбам подчеркивал, что речь шла о духовной миссии, которую нельзя было доверить тому, кто ее отверг.
Дуальность как основа мира
Подобные истории о противостоянии двух братьев проходят через всю Тору, и каждая из них построена по одной и той же схеме. Два сына, рожденные в одной семье, оказываются воплощением двух противоположных начал. Каин и Эвель (Авель) — зависть и праведность. Ишмаэль (Измаил) и Ицхак — земное и духовное. Яаков и Эсав — сиюминутное и вечное.
Эта дуальность проявляется и в мифах других народов. В Египте Осирис символизировал порядок и жизнь, а Сет — хаос и разрушение. В зороастрийской традиции добрый дух Спента-Манью противостоял злому духу Ангра-Манью, олицетворяя борьбу добра и зла. В Китае тот же принцип выражен в символе Инь и Ян: тьма и свет, женское и мужское, пассивное и активное — противоположности, которые не уничтожают друг друга, а образуют гармонию. В Индии дуальность проявилась в «Махабхарате»: Пандавы олицетворяли дхарму — справедливость, долг и порядок, а Кауравы — адхарму, то есть алчность, хаос и нарушение закона. А в философии индуизма она выражена в противопоставлении пуруши (духа, сознания) и пракрити (материи, природы), из напряжения которых рождается мир.
Причем корень этой идеи уходит еще в сад Эдена (Эдем). Рай был образом единства, где человек жил в гармонии с Богом и природой. Но изгнание разрушило эту цельность, и с тех пор мир стал дуальным. Добро и зло, дух и плоть, свет и тьма — все это сама ткань существования.
Если взглянуть шире — через призму науки и философии, — то здесь можно увидеть универсальный принцип мироздания. Пока все едино, на самом деле не существует ничего. Нет различий, нет форм, нет движения. Единство — это покой, некий рай, нирвана, но при этом и полная пустота. Лишь когда возникает разделение, появляется жизнь. Тора называет это изгнанием человека из сада Эдена, наука — рождением пространства, времени и материи из квантового вакуума, а философия — проявлением дуальности. Наше существование возможно только в полярности. Убери противоположности — и мир вновь растворится в ничто.
Тайна имени «Израиль»
В отличие от своего деда Авраама, который вошел в историю как первооткрыватель идеи единого Бога, и отца Ицхака, чья жизнь была тихой и статичной, Яаков предстает перед нами фигурой куда более противоречивой. Он человек сложный, двойственный, полный внутренних конфликтов. Тексты описывают его как ловкого притворщика, умеющего действовать хитростью. Но вместе с тем он стратег, политик, терпеливый игрок, способный выжидать и лавировать. И одновременно — мечтатель и мистик. В одном из видений Яаков увидел лестницу, стоящую на земле и достигающую неба, по которой восходили и нисходили ангелы. Это стало символом связи между земным и божественным.
Кульминацией его пути стала ночь на берегу Ябока. Яаков остался один — и вдруг оказался в схватке с таинственным противником. «И боролся некто с ним до появления зари», (Берешит 32:25). Кто это был — ангел, посланник Бога, его страх или собственная тень — текст не раскрывает. Известен лишь исход: Яаков выходит из поединка хромым, но живым и получает новое имя — Израиль.
Само имя многозначно. Его переводят как «тот, кто борется с Богом», «тот, с кем борется Бог», «тот, кто сражается за Бога», «тот, кем управляет Бог», «опора Божья». И в каждом из этих толкований есть своя правда.
12 как универсальный код мира
Главное наследие Яакова — его дети. У него родились двенадцать сыновей: Рувим, Шимон, Леви, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Нафтали, Гад, Ашер, Йосеф и Биньямин. Именно они стали родоначальниками колен Израиля.
А теперь давайте разберемся с числом двенадцать. В древнем мире союзы двенадцати племен были явлением вполне привычным. Подобные объединения существовали по всему восточному Средиземноморью и в Малой Азии в позднем Бронзовом веке. У греков они назывались амфиктионами — от слова, означающего «жить поблизости». Но объединяющим фактором могла быть не столько общая кровь, сколько преданность одной святыне. Поэтому многие исследователи XIX–XX веков сомневались в буквальном происхождении всех колен от одного человека — Яакова. Они предпочитали видеть в этом союзе либо дальнее родство, либо даже независимые группы, которые объединились вокруг израильских святынь.
Число двенадцать стало универсальным кодом древнего мира. Уже шумеры сделали его основой своего мышления. Они делили год на двенадцать месяцев, а сутки — на двенадцать двойных часов. Их двенадцатеричная система счисления определила календарь, мерные единицы и даже религиозные представления. В храмах Месопотамии двенадцать небесных созвездий связывались с циклами богов и течением времени — так возник зодиакальный круг, разделенный на двенадцать частей. Этот образ унаследовали вавилоняне, а затем греки, персы и евреи.
В мифологии двенадцать звучало как число полноты и завершенности. У греков было двенадцать олимпийских богов, у скандинавов — двенадцать асов в Асгарде. В еврейской традиции оно закрепилось как число священного устройства мира: двенадцать колен Израиля, двенадцать камней на наперснике первосвященника, двенадцать хлебов в Храме. В Новом Завете двенадцать апостолов продолжили линию колен как новое духовное сообщество. В апокалиптических видениях Новый Иерусалим имеет двенадцать ворот и двенадцать оснований.
Даже в политических структурах число двенадцать продолжало жить: у римлян — двенадцать таблиц закона, у германцев — двенадцать присяжных, судивших по обычаям. Везде, где требовалась символическая полнота, обращались именно к этому числу.
Почему именно 12?
Астрономия и календарь. Самое простое объяснение — небо. Человеку с древности было очевидно, что год делится на двенадцать лунных месяцев (примерно по 29, 5 дней каждый). Даже если солнечный год не совпадал точно с лунным, сам цикл двенадцати закрепился как удобная мера времени. Отсюда и двенадцать знаков зодиака. Небо разделили на двенадцать секторов, чтобы отслеживать движение солнца и звезд.
Удобство счета. Двенадцать — одно из самых «дробимых» чисел. Его можно разделить на 2, 3, 4 и 6. Это делало его идеальным для торговли, мер и весов. Не случайно до сих пор остались «дюжина», «фут в 12 дюймов», «12 часов на циферблате». В отличие от 10 (которое делится только на 2 и 5), двенадцать позволяло строить гибкие системы деления.
Символ полноты. Разделить мир на двенадцать частей — значит охватить его целиком. 4 стороны света × 3 уровня (небо, земля, подземный мир) = 12. В этом смысле двенадцать символизировало завершенную картину мироздания.
Социальный и религиозный код. Человеческие сообщества часто подстраивались под «космическую математику». Двенадцать племен, двенадцать богов, двенадцать судей или апостолов — это попытка вписать человеческий порядок в универсальный закон космоса. Так союзы двенадцати племен или коллегии двенадцати богов становились отражением небесной гармонии.
Наследие. Как только эта схема закрепилась в культуре, она стала переходить от цивилизации к цивилизации — от шумеров к грекам, от евреев к христианам. Так двенадцать превратилось в универсальный язык, на котором человечество описывало гармонию мира.
*****
История двенадцати сыновей Яакова — это только пролог. А в следующей серии мы переместимся в Египет — страну, где окажется Йосеф, проданный братьями за двадцать сребренников, и где судьба всей семьи изменится навсегда. Изучая историю евреев невозможно обойти стороной эту великую цивилизацию фараонов и пирамид, которая самым непосредственным образом повлияла на их становление. Ибо в Египет вошла семья, но вышел народ.